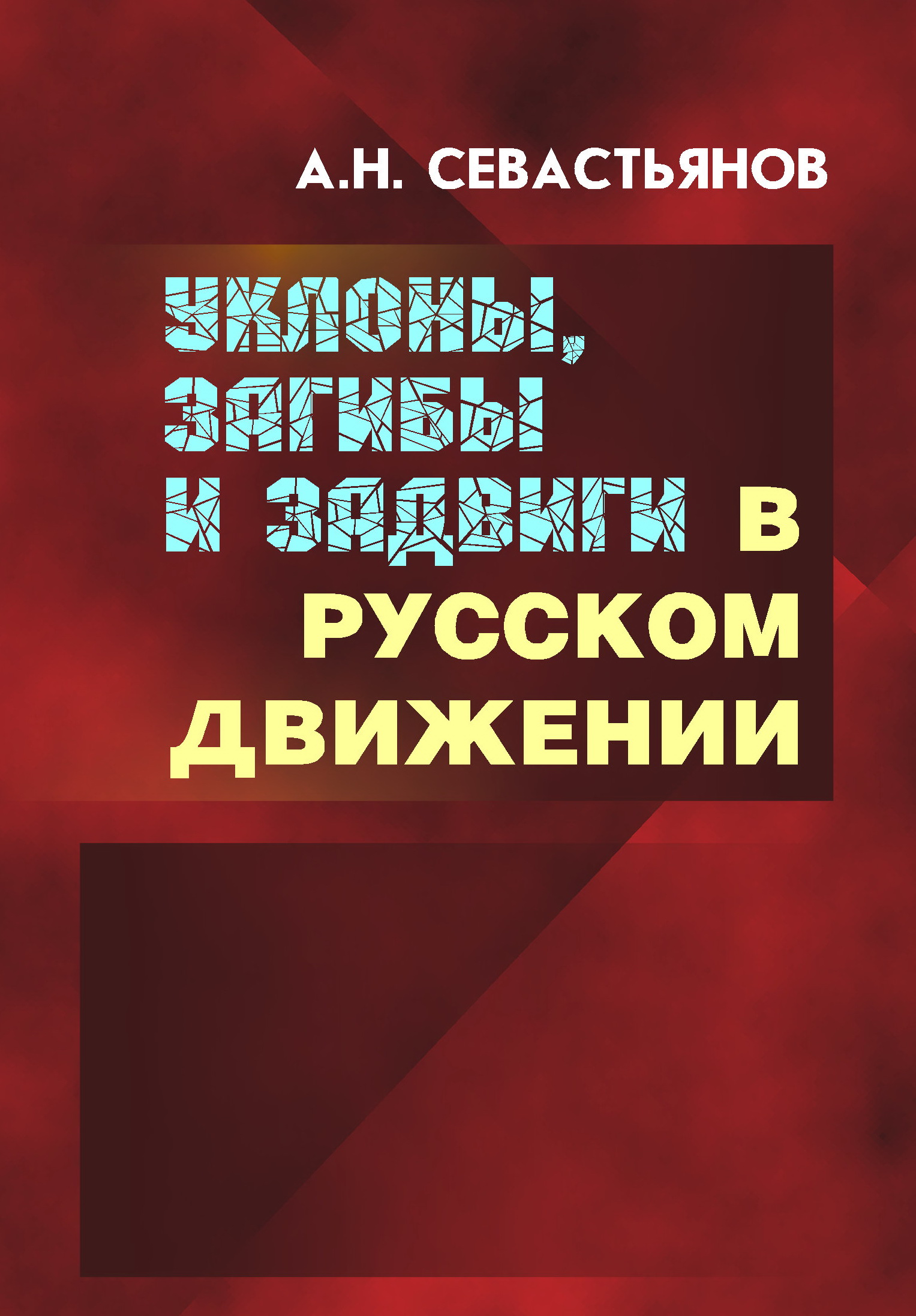Родился я 11 апреля 1954 года в Москве, на площади Белорусского вокзала, в доме, где жили известные лётчики и самолётостроители. Приёмный отец моей мамы, С.А. Кочеригин, в квартире которого мы с родителями тогда оказались, был одним из первых русских летчиков-испытателей, а впоследствии известным авиаконструктором, близким сотрудником Ильюшина. Отец мой, Никита Борисович Севастьянов, демобилизовавшийся осенью 1945 года (его последний фронт – взятие Будапешта) полным сиротой. Его отец, белогвардейский офицер, вернувшийся в 1922 г. из Константинополя в Россию, был расстрелян по ложному доносу в 1931 г. (реабилитирован уже на моей памяти), а мать, капитан медицинской службы, погибла на фронте в 1943 г. Всё имущество отца составляла прожженная у фронтового костерка шинель; первые годы совместной жизни они с мамой снимали углы по всей Москве. Круглый отличник (Сталинский стипендиат), отец сразу поступил в аспирантуру Мосрыбвтуза и незадолго до моего рождения стал кандидатом наук. Моя мама, Анна Александровна, урожденная Куликова, педагог божьей милостью, преподавала английский язык в МГИМО. Но своего жилья не было, поэтому, когда в 1959 году отцу предложили переехать с институтом в Калининград и возглавить там кафедру, он согласился. В апреле 1945 года он брал штурмом Кенигсберг и охотно поехал в этот, с его участием отвоеванный, край – Восточную Пруссию. Там он, учёный с мировым именем, и работал до конца жизни; сегодня в Калининграде есть улица Профессора Севастьянова.
Родился я 11 апреля 1954 года в Москве, на площади Белорусского вокзала, в доме, где жили известные лётчики и самолётостроители. Приёмный отец моей мамы, С.А. Кочеригин, в квартире которого мы с родителями тогда оказались, был одним из первых русских летчиков-испытателей, а впоследствии известным авиаконструктором, близким сотрудником Ильюшина. Отец мой, Никита Борисович Севастьянов, демобилизовавшийся осенью 1945 года (его последний фронт – взятие Будапешта) полным сиротой. Его отец, белогвардейский офицер, вернувшийся в 1922 г. из Константинополя в Россию, был расстрелян по ложному доносу в 1931 г. (реабилитирован уже на моей памяти), а мать, капитан медицинской службы, погибла на фронте в 1943 г. Всё имущество отца составляла прожженная у фронтового костерка шинель; первые годы совместной жизни они с мамой снимали углы по всей Москве. Круглый отличник (Сталинский стипендиат), отец сразу поступил в аспирантуру Мосрыбвтуза и незадолго до моего рождения стал кандидатом наук. Моя мама, Анна Александровна, урожденная Куликова, педагог божьей милостью, преподавала английский язык в МГИМО. Но своего жилья не было, поэтому, когда в 1959 году отцу предложили переехать с институтом в Калининград и возглавить там кафедру, он согласился. В апреле 1945 года он брал штурмом Кенигсберг и охотно поехал в этот, с его участием отвоеванный, край – Восточную Пруссию. Там он, учёный с мировым именем, и работал до конца жизни; сегодня в Калининграде есть улица Профессора Севастьянова.
У меня с детства очень цепкая память: я помню, как меня клали на медицинские весы, как с улицы вывозили на балкон в коляске досыпать, как мама кормила меня грудью. Она много пела мне русских песен, колыбельных, напевала романсы и даже оперные арии, старалась развить мой слух и вкус к родной мелодике. Много читала мне вслух, особенно русские сказки, Пушкина, вообще стихи. В возрасте четырёх-пяти лет водила меня в Третьяковскую галерею (особенно запомнились с первого же раза «Ночь на Днепре» Куинджи, «Вечер после побоища Игоря Святославича с половцами» Васнецова, «Двери Тамерлана» и «Апофеоз войны» Верещагина»). Ранняя прививка русской культуры сыграла большую роль в моей жизни.
Калининградская область – удивительный, во многих отношениях заповедный и волшебный край с пронзительно прекрасной природой, где повсюду встречаются романтические следы бывших цивилизаций – германской и славянской (собственно прусской). Это моя Малая Родина, очень любимая и навеки памятная, которую я всю обошел когда-то с фотоаппаратом в поисках архитектурных памятников средневековой орденской готики. Но ничего русского в крае не было, кроме русских людей, составляющих там 80% населения: ни архитектуры, ни церквей, ни памятников истории и культуры. Интеллигентское сообщество столицы края было интернациональным, что воспринималось как нечто само собой разумеющееся, ведь все были приезжими, неместными, «иммигрантами». Приезжая в Москву к бабушке (на деле она была теткой моего родного деда, удочерившей мою мать, когда тот женился вторично) на школьные каникулы, я отчасти отстранённо, но зато весьма остро – по контрасту – воспринимал все русские эстетические и культурно-бытовые приметы главного города русского народа. Тогда он еще казался именно таким, всецело русским, даже подчеркнуто русским городом. Я помню Москву очень русской и хочу, чтобы моим детям и внукам она вновь вернулась такой.
Всё познается в сравнении. В Москве я попадал в среду старой (в прямом и переносном смысле), этнически и духовно исключительно русской интеллигенции. Мои многочисленные прямые и двоюродные деды и бабки были инженерами, врачами, госслужащими прежней, дореволюционной закваски; многие воевали – кое-кто не только во Вторую мировую, но и в Первую, и в Финскую, имели офицерские чины, награды. Но память счастливого досоветского детства и юности, как и память страшных большевистских лет, когда вокруг погибали все и всё, что было им дорого, витала в разговорах, передавалась и мне. Сочетание непоказного огромного патриотизма и откровенно антисоветского духа было органичным, естественным для моей родни. Я неосознанно учился чувствовать, что Россия – это нечто гораздо большее, более вечное, интересное и драгоценное, чем её советская политическая модификация.
Родственников по линии отца было меньше, а конкретно Севастьяновых не сохранилось вообще. Отец пытался разыскать братьев деда Бориса, но старший погиб в Германскую, а младшие, как он выяснил, не решились, имея перед глазами страшный пример брата, заводить семьи и умерли бездетными. Большой и жизнелюбивый клан донских казаков Забугиных, к которому принадлежала моя погибшая на фронте бабка, принимал нас весело и с любовью. Там тоже были инженеры и врачи, в том числе фронтовые.
Жизнь в Калининграде неожиданно обернулась бедой: в 1968 году отец ушёл в другую семью. Это сопровождалось настолько трагическими обстоятельствами, что отравило мою жизнь на долгие годы. Мама тяжело болела, переходя из больницы в больницу. При живых родителях я в 13 лет остался сиротой, фактически без присмотра. Отцу я запретил появляться в доме, отношения прервал. Спустя много лет, жестоко наказанный судьбой, отец вернулся в нашу семью, к матери, когда у меня самого уж было двое детей… Этих лет, с их горечью, никак не зачеркнуть, ничем не восстановить. Я, мальчишка, перешедший сразу из детства, минуя юность, к взрослой жизни, не мог понять: за что мне эта кара. Теперь только понимаю: я авансом платил за своё будущее семейное счастье, за раннее постижение незыблемых истинных ценностей жизни, среди которых семья и дети – на первом месте. Жестокий урок, но, быть может, необходимый в наше безнравственное время с его расшатанными устоями.
Драма состояла ещё и в том, что если не считать этой трагической ошибки (временного помрачения), отец заслуживал как человек, гражданин и учёный величайшего уважения и любви. И всегда пользовался в обществе таковыми. Он был человеком исключительным во многих отношениях; отлично рисовал, писал хорошие стихи, как, кстати, и его отец, был умён и широко образован, любознателен, мог быть душой компании, притом был совершенным трудоголиком. На фронте он вступил в компартию и был не только кристально чистым и порядочным, но и искренним по своим коммунистическим убеждениям человеком. Выросший «в людях» (отец убит, мать по нескольку суток дежурила в больнице, чтобы прокормить себя и сына, а он всю жизнь помнил каждый день детства, когда бывал сыт), он не раз говаривал: «Всё зло в мире – от слова “моё”!», «Мне ничего не нужно, кроме письменного стола и чистой рубахи, только не мешайте работать!». И даже ещё жёстче: «Я ненавижу собственность!» Он так и жил, в полном соответствии с убеждениями, скромно, полным бессребреником, не наживя никакого имущества, кроме нужных для работы книг (под конец жизни ему как фронтовику выдали «Москвич», но он уже практически не ездил на нём). Мы жестоко спорили с ним, я считал и считаю коммунистическую доктрину насквозь фальшивой, ложной, игнорирующей и неверно трактующей самую природу человека и общества. Но именно благодаря личному примеру отца я понимаю, что, хотя коммунизм как доктрина – ложь, однако сами коммунисты могут быть отличными людьми…
Я сполна хватил преждевременной «взрослости»: в 13 лет – первая сигарета, в 14 лет – первая женщина, в 15 – первый стакан чистого спирта. К счастью, со временем курить бросил, а к спиртному не пристрастился. После восьмого класса, чтобы чуть облегчить матери бремя забот и заодно «познакомиться с народом» (я начитался тогда социалистов Фурье и Сен-Симона), по чужому паспорту работал разнорабочим в городке Немане: крыл крыши черепицей, ставил и штукатурил стены, пособлял маляру и плотнику. Заработал себе на ботинки и первый в жизни костюм. После девятого класса – а я был здоровенный малый, сильный, физически развитый – подрабатывал в Калининградском торговом порту на разгрузке мешков с кубинским сахаром… Правда, к десятому классу у меня уже был другой источник заработка: я был страстным (мне даже снились белые шары на зелёном поле) и одарённым игроком на бильярде. Взрослые дяди охотно вставали играть со мной, рассчитывая слегка нажиться на самонадеянном мальчишке, а уходили с пустыми карманами. В 16-17 лет я уже ездил играть в Ригу, Вильнюс, Ленинград. Деньги не были для меня проблемой. Впоследствии, женившись в первый раз сдуру в 18 лет и выполняя требование жены, я бросил игру и потом уже не мог восстановить однажды данный дар. Однако люблю бильярд по-прежнему, играю при любой возможности. Изумительный спорт, честный и невероятно красивый! Никакой иной меня никогда не прельщал, если не считать умной игры – преферанса, которому я принципиально учу всех своих детей. Иногда играю в рулетку, только с целью выиграть. Выигрываю, но не помногу.
В 1972 году мы с мамой вернулись в Москву, я перевёлся на заочное отделение филологического факультета МГУ. Пошёл работать: первая должность была – проводник лифта научной библиотеки МГУ. С собой из Калининграда вывез невесту. Отец её был русский инженер-путеец, но мать была еврейкой. Я тогда совершенно не придавал этому значения. И только прожив в этом неудачном (к счастью, бездетном) браке пять лет, близко насмотревшись на практически исключительно еврейское окружение жены, я научился отлично разбираться в особенностях национальной психологии евреев и в тонкостях русско-еврейской принципиальной несовместимости. Всем бы нашим патриотам столь жёсткую школу – избежали бы многих ложных шагов, избавились бы от массы иллюзий! А кое-чему полезному и научились бы.
За годы неудачного сожительства я настолько хорошо понял, каким не должен быть брак и какой не должна быть жена, что когда познакомился со своей Люсей, тогда 18-летней, только окончивший Театрально-художественный техникум русской девочкой, которая была во всём полной противоположностью моей супруге, я не раздумывая бежал из дома. За безрассудство первого брака мне пришлось расплатиться родовой квартирой на улице Горького: дёшево отделался!
Вот уже более тридцати лет мы с Люсей вместе, это счастливый союз, который, собственно, сделал всю мою жизнь. Моя жена – надёжная опора, разделяющая мои взгляды на жизнь и политику. Благодаря ей, её неустанным заботам о доме, о детях, у меня развязаны руки. Мы сознательно культивируем именно русскую семью, поддерживаем в ней русский дух, русскую культурную атмосферу, какой я успел набраться у старшего поколения предков и друзей. У нас шестеро детей и трое внуков. Пятикомнатная государственная квартира (получили четырёхкомнатную как многодетные в 1985 году, потом обменяли). Старший сын – адвокат, погиб при невыясненных обстоятельствах, у него остались вдова и сын. Старшая дочь – художник по ткани, замужем за офицером, у них сын и дочь, живут, увы, далеко от Москвы. Средний сын – архитектор, средняя дочь – художник, дизайнер широкого профиля, замужем за бизнесменом. Двое младших детей пока живут с нами, младший сын – ещё школьник. Сынишка на год старше старшего внука…
Все они любят друг друга, заботятся, помогают друг другу, живут дружно. Мы всегда объясняли им, что в мире нет никого ближе, нет надёжней опоры, чем свои, семейные. Мама моя, к счастью, жива, сохраняет ясный ум, высокую душу, доброе сердце. Съезжаться с нами не хочет, ценит самостоятельность в свои 87 лет! Ещё и внукам помогает, и с правнуками английским занимается… А в нашем доме много лет жили, сменяя одна другую, собаки; сейчас собираемся взять кошку.
Я много раз в жизни менял работу, искал каждый раз только такую, которая позволяла бы развиваться, учиться, узнавать новое, творить. Одно время мечтал о карьере кинорежиссёра, но женитьба на Люсе сделала это невозможным: кино и семья плохо совместимы. С тех пор никакой карьеры не делал принципиально, предпочитая создавать своё: статьи, книги. В аспирантуре учился заочно, чтобы не вступать в КПСС, отработал тогда 3,5 года дежурным слесарем по вентиляции… Сейчас состою в ряде творческих союзов. Богатства не нажил (нет ни дачи, ни машины).
В доме – кое-какая библиотека, которую собираю всю жизнь. К сожалению, дети читают мало: то ли времени совсем не хватает, то ли вообще поколение такое. А вот мы всегда были книжными людьми.
Есть несколько хороших семиструнных гитар. Это исключительно русский инструмент; он совершенно забыт, вытеснен шестистрункой, его не преподают больше в России. Мы, семиструнщики, редки, как мамонты, да ещё и белые. А у меня немалый репертуар русских песен и романсов (был даже записан диск «Любимые романсы», разошёлся по рукам). Теперь уже лишь изредка пою в дружеском кругу.
Свободного времени нет вообще, но если таковое, все же, выдаётся, играю с детьми, хожу по музеям (моя страсть и мой интерес как искусствоведа – графика, керамика, холодное оружие). Любимое место отдыха – Крым, русская святыня.
Близких друзей в Москве мало. Мое счастье и горе в том, что я всегда дружил с людьми, которые были намного старше меня; я всех их уже проводил в последний путь. А новые друзья не так-то легко заводятся, когда тебе самому за пятьдесят. Но в последние годы у нас сложился необыкновенный кружок из замечательных людей. Вначале он возник на почве общих политических идей, истового русского национализма, но люди оказались настолько отборными – умными, образованными, содержательными, порядочными, что между нами из-за взаимного уважения и симпатии завязались дружеские, теплые отношения. Я надеюсь, что это навсегда…